.png)
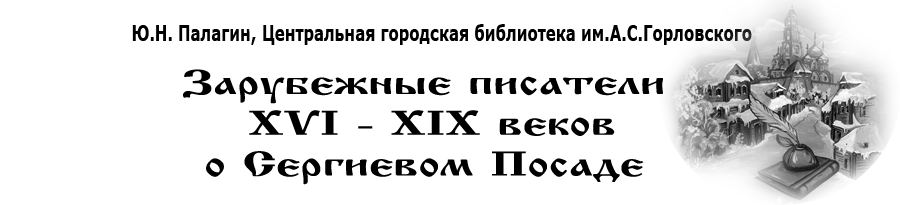
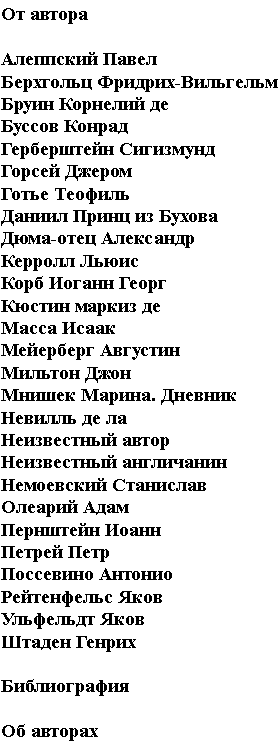
О книге Мейерберга Ф.П. Аделунг в 1827 году написал работу на немецком и русском языках под заглавием: "Барон Мейерберг и путешествие его по России, с присовокуплением рисунков, представляющих виды, обряды, портреты и т.п., в продолжении сего путешествия собранных".
По наблюдениям Мейерберга, все священники, несмотря на жесткие запреты, к примеру, не жениться дважды, не служить службы после совокупления, грязны и развязны в жизни, пренебрежительны к другой вере и по "суеверию заблудшего ума" просто-таки преклоняются перед иконами. Кроме икон, в домах никаких картин и изваяний совсем нет, и поэтому со смертью предка умирает и память о нем. В русских церквях нельзя сидеть, люди не шепчут молитв, "не желая прослыть колдуном", молитва же вслух "состоит в тысячекратном повторении "Господи, помилуй" при осенении себя столько же раз крестным знаменем". "Проповедей никаких не бывает, чтобы, как объявляют московитяне, заблудшим умам не давать случая научать народ ереси". Как ни старались царские слуги удивить посольство пышностью приема, как ни скакали во всю прыть (без понятия красоты верховой езды и изящных правил), как ни распахивали лихо свои шубы, чтобы показать красоту и дороговизну меха, московиты не смогли скрыть от зоркого взгляда Мейерберга "закоснелое лукавство", врожденную лживость и превратное мнение о чужестранцах, добытое ими от невежественных купцов, от пленных солдат или из "еженедельных Меркуриев прусаков и голландцев, занесенных в Москву". В Кремле Мейерберга поразил самый большой в мире Царь-колокол, отлитый в 1653 году и еще не поднятый, а во взаимоотношениях между знатными боярами и князьями - кичливое поведение, потому что "у московитян знаменитость рода ценится выше справедливости". С царем послы встречались три раза. На третьей встрече было решено съехаться послам России и Польши в Полоцке (со шведами русские заключили мир сами, без посредников), но отложили в связи с рождением в царской семье сына Федора. "Во все время 12-ти месячного, самого скучного, нашего пребывания в Москве...". Так начинается один из абзацев книги Мейерберга. Он вдоволь насмотрелся на русские порядки, на домашнюю серую жизнь, на резкую грань между богатыми и бедными, которые "питаются одним хлебом и чесноком", запивая их квасом и водою. Пьянство и разбой связаны с отчаянием и голодом, потому что хозяева плохо кормят своих рабов и не платят им, "так что в Москве не рассветет ни одного дня, чтобы на глазах прохожих не попадалось множество трупов убитых ночью людей". Посольство жило уединенно, корреспонденцию не получали и разрешения на посылку своих писем не имели. К ним никто не допускался, женщины особенно, и сами послы не имели права ходить к кому-либо. У Мейерберга сложилось представление, "что у москвитян почти нет никакой разницы между посланниками мира и пленниками войны". В такой же изоляции от внешнего мира живут русские женщины. Царевнам нельзя выходить замуж и покидать царские покои. Девушки выходят замуж не по любви и видят своего суженого только в день свадьбы; в семьях ссоры, а второй раз выйти замуж или жениться считается греховным.
Женщина редко появляется на улице, а если выйдет, как обычно, не очень опрятна, то хвастается всеми нарядами, доставшимися от предков. Природа не обделила русских женщин ни красотой, ни статностью, но портят они себя тем, что "натирают все лицо с шеей белилами, а для подкраски щек и губ прибавляют еще румян. Этот ложный обычай подкрашивать себе цвет лица до того укоренился, что даже в числе свадебных подарков глупый жених посылает невесте также и румяна, чтобы она себя подделывала". Простые женщины живут вольнее. Есть развратницы. В чрезвычайно жарких банях мужчины и женщины моются раздельно, но после мытья и мужчины и женщины нагишом бросаются в речку или, если зима, натираются снегом и бегут в одну дверь допариваться. "Странно сказать, - удивляется Мейерберг, - но при такой беспорядочной жизни обоих полов в Московии многие доживают до глубокой старости, не испытав никогда и никакой болезни". 70-летние старики крепки и работящи как молодцы, и это, вероятно, оттого, что в Московии хороший воздух, и оттого, что никто не изматывает себя учением и совсем не лечится. "Во всей Москве нет ни одного врача, ни аптекаря", больные лечатся прикладыванием наружных снадобий, заговорами старух или татар, водкой и чесноком. У царя есть три иностранных лекаря, к услугам которых он почти не прибегает. "Все бояре без исключения везде открыто занимаются торговлей. Продают, покупают, променивают без личины и прикрытия (...), заставляют почетный посольский сан служить низкому промыслу", что впрочем есть и у "более образованных народов". Все купцы "шаткой честности". "В ремесленниках тоже совсем нет добросовестности и верности". Если бояре пользуется расположением царя, то получают воеводство "даром ... точно водопроводные трубы воду, но никому не отводят ее даром". Чтобы задобрить любимцев царя и самому не слететь с должности, боярин раскошеливается, но с лихвой возмещает потери с подвластного ему народа, сдирая с него шкуру, а не только состригая шерсть. Бесправие раба узаконено, и господин знает, что "жалобы его имеют такой сиплый голос, что не дойти ему до царского слуха". В стране не существует наказаний за обман. "Приговоры продаются с торга: решают в пользу той стороны тяжущихся, которая принесет больше. Преступники покупают себе безнаказанность: злодеи притупляют лезвие меча правосудия, подставляя под удары его золотые щиты". В своем "Путешествии в Московию" Мейерберг не придерживается хронологии, и поэтому часто какой-нибудь эпизод дает ему повод вольно перейти к другой теме и, углубившись в историю, поразмышлять над проблемой. Такой темой стал Троице-Сергиев монастырь в рассуждении о православии. "В последний день сентября, - сообщает Мейерберг, - великий князь отправился в знаменитый монастырь пресвятой Троицы, в 60-ти верстах от Москвы, по дороге к Переславлю, чтобы поклониться мощам своих святых: Сергия, некогда тамошнего игумена, и ученика его, Никона, и прислал к нам часто упоминаемого князя Алексея Ивановича Буйносова-Ростовского уведомить нас о том и спросил, здоровы ли мы. Мы изъявили чрез него нашу покорнейшую благодарность царю, желание ему благополучного пути для исполнения обета и возвращения назад в добром здравии. На походе он увидел в одной из городских улиц нескольких наших служителей, которые приветствовали его почтительным поклоном, и послал осведомиться, из нашего ли они общества. Получив утвердительный ответ, посланный спросил еще от царского имени, здоровы ли они, и потом воротился к своему государю с их ответом и благодарностью". Этот очистительный русский обряд поклонения святым, неукоснительно исполняемый царем, побудил Мейерберга к рассуждению обо всех святых, которых особо почитают московиты. Русские чтут Пресвятую Деву и Николая Мириликийского, справляют даже праздник перенесения его тела, хотя греческая церковь не допускает такого празднества. Поэтому у Мейерберга зародилось мнение, что у русских "причина муки, а не сама мука делает святым мучеником" человека, и тому еще есть много примеров. Владимир, первый московский царь, "приведенный в христианскую веру таинством животворного крещения, поэтому и называется святым у московитян и в греческом месяцеслове, хотя он был многоженец и разными убийствами и хищениями возвысился в русские государи, да и после крещения ничего и никогда не возвращал из того, что присвоил себе". И дети его только дрались меж собой, а их тоже внесли в "книгу мучеников и празднуют их память 24-го июля". Братьев Бориса и Глеба возвели в сонм святых потому, что "они лучше хотели лишиться жизни и царства, нежели, сохранив то и другое, подвергнуть своих подданных войне и многочисленным бедам одного с нею согласия". Мейерберг толкует их поступок по-другому: "брат Бориса и Глеба старался разными коварными кознями и происками умертвить их: один из сих братьев напрасно принужден был спасаться от них бегством; наконец оба не избегли их, и неожиданно, негаданно подосланные злодеи лишили их жизни". Таким деятелям, думает Мейерберг, которые "не оказывали ни малейшего сопротивления умыслам против них нечестивцев (...), которые, пренебрегая вполне необходимою войной в защиту себя и подданных, сами еще помогают злодеям наносить себе обиды (...) и очищают место назойливости преступного тирана", не следует "раздавать мученические венцы". "А известные всему миру чудеса Сергия едва находят и веру у нынешних современников, потому что теперь их совсем не бывает. Никто совсем уж и не помнит медного горшка с топленым маслом, которое обыкновенно подавалось каждому богомольцу в достаточном количестве, без всякой убавки назначенной из него доли для монастырской братии. Если мы не скажем, что истинное чудо тут в том, что горшка с маслом, составляющим, без сомнения, самое скудное кушанье монастырской поварни, доставало для пришельцев издалека, посещавших монастырский храм два раза в год, в Троицын и Михайлов день, то щедрые подаяния от этих богомольцев дают возможность заключить, что горшок с маслом никогда не опрастывался. В Московии все верят правдоподобной молве, что в этом монастыре за 40 миллионов серебряных рублей от подаяний великих князей и других лиц зарыто в землю на сбережение Плутона. Здесь, кстати, заметим мимоходом, что Сергий, по мнению московских летописей, кончил жизнь в 6897 году от сотворения мира, или 1388 нашего спасения, в княжение в Московской Руси Василия Дмитриевича; следовательно , Поссевин сделал ошибку (если только не отнести это к опечатке) в письме к Григорию ХIII, в 1581 году, будто бы он умер назад тому 19 лет. А Олеарий, следуя ему на веру, не заметил, что сам Герберштейн, о котором он упоминает, что сказал неправду о Сергии, издал свои записки о делах Московских в 1549 году после первого своего посольства в Московию в 1517 году (...) и после вторичного ... в 1526 году ... потому ничего и не мог сказать о погребении Сергия в монастыре пресвятой Троицы, также и о его чудесах, если этот кончил жизнь только в 1562 году". (Сергий Радонежский скончался на 78 году от рождения 25 сентября 1391 года. Путаницу с датой его кончины в сочинениях Поссевино, Герберштейна и Олеария можно объяснить только приблизительным знанием жизни Сергия в самой России тех лет, - Ю.П.). Сомнительными и глуповатыми показались Мейербергу православные обряды причащения и погребения. Он принял за "сумасбродство равнодушного невежества москвитян" вкладывать в руки усопшего подписанную местным притчем бумагу с указанием имени умершего и с просьбой впустить "его в райские двери к блаженной радости. Что за детская бестолочь!" Если русские верят, что до Страшного суда никто не свят, то напрасно просить святого Петра впустить умершего в рай, ибо Петр пока делать этого не вправе. Русские оправдывают обряды тем, что до Страшного суда для душ существуют два места - рай и ад.
Так же пытливо всматривался Мейерберг в государственное устройство России. От Рюрика до Романовых, до Алексея Михайловича он проследил, описывая конкретно и умно, преемственность власти в Московии и выяснил, что причина необразованности нации связана с тем, что, во-первых, сами цари ненавидели науку из боязни, что подданные "наберутся в них духа свободы, да потом и восстанут, чтобы сбросить с себя гнетущее их деспотическое иго", а во-вторых, упорство православной церкви: духовенство, "зная, что науки будут преподаваться по латыни и могут быть допущены не иначе как с латинскими учителями", боится распространения латинских обрядов и учителей, которые могут предать осмеянию невежество и несостоятельность христианского вероучения. В-третьих, - это бояре, боящиеся того, что выученная молодежь устранит их, отсталых, от общественно-политических дел в государстве. Борьба бояр за влияние на царя и свое благополучие в Московии никогда не затихает. Так, воспитатель Алексея Михайловича Морозов, "державший по своему произволу скипетр", отправил всех сановных бояр в почетные и непочетные ссылки, собрал вокруг молодого царя верных себе людей, женил царя на одной из сестер Милославских, а сам женился на второй (К каким бедствиям эти хитрости привели при Петре, знает каждый школьник, - Ю.П.). Портрет ныне царствующего Алексея Михайловича дан Мейербергом объемно, с нескрываемой симпатией. "Алексей - статный муж, среднего роста, с кроткой наружностью, бел телом, с румянцем на щеках, волосы у него белокурые и красивая борода; он одарен крепостью телесных сил, которой, впрочем, повредит заметная во всех его членах тучность, если с годами она все будет увеличиваться и пойдет, как обыкновенно, в живот; теперь он на 36 году жизни. Дух его наделен такими блестящими врожденными дарованиями, что нельзя не пожалеть, что свободные науки не присоединились еще украсить изваяние, грубо вылепленное природой вчерне. Кроткий и милостивый, он лучше хочет, чтобы не делали преступлений, нежели иметь дух за них наказывать. Он и миролюбив, когда слушается своей природной наклонности; строгий исполнитель уставов своей ошибочной веры и всей душой предан благочестию. Часто, с самою искреннею набожностью, бывает в церквях за священными службами (даже ночью вплоть до рассвета дома молится богу, - Ю.П.), при его величайшей власти над народом, приученным его господами к полному рабству, он никогда не покушался ни на чье состояние, ни на жизнь, ни на честь". В гневе ограничивается лишь пинками и тумаками. Придворные окружают царя в первой половине дня, обедает царь один, даже без жены и детей. Пышный царский выезд - это грандиозное событие в жизни столицы. Титул, которым облечен Алексей Михайлович, занимает в работе Мейерберга треть печатной страницы и вызывает у автора сомнение: "по московскому обычаю в него вкралось много напрасных, ложных и независимых владений", а некоторые не указаны вовсе. Наблюдая за русской государственной машиной, Мейерберг понял, что царь в Московии - вершитель всего, что его воля - "непреложный закон для всех подданных". Все и даже нищие говорят, что владельцами их имущества, их жизнями являются бог и царь. В бумагах все подписываются "из уничижения уменьшительным именем": Степка, богомолец твой, холоп твой, мужик твой, сирота твоя, человек твой, рабица твоя, крестьяне твои... "Их покорность вынуждена страхом, а не сыновним уважением. Поэтому-то, когда страха нет или он поисчезнет, покорность упрямится и брыкается", и после порки они, как собаки, встряхнувшись, продолжают по-прежнему упрямиться, но в душе готовы снова подставлять тело под удары с рабской терпеливостью. "Мне думается, - предполагает Мейерберг, - что упрямая и непокорная славянская природа, возбуждаемая бурливыми парами ежедневно выпиваемой водки, делает такими строптивыми московитян". Ограничить самовластие царя могла бы Дума, существовавшая на Руси испокон веков, но цари "спрашивали ее мнение только для вида, чтобы свалить с себя на нее ненависть за сделанную ими несправедливость. Алексей превосходно идет по следам их, распоряжаясь всем по своему произволу", а лучше сказать, по подсказке своих любимцев. Один из них Морозов, человек способный и корыстолюбивый, настолько вошедший в доверие царю, что по кончине его царь "сам пожелал отдать последний долг покойному в церкви, вместе с прочими, не думая нимало, что унизит тем свое величество, если будет оплакивать его при всех". Вторым надо назвать его тестя Илью Даниловича Милославского, который, "выбравшись из грязи самого бедного люда и самого низшего дворянства", заимел самые высокие почести и силу при дворе. Когда Милославский предложил себя на роль командующего в войне с поляками, царь обругал его "блудницыным сыном", "влепил ему громозвучную пощечину и, тряся его за бороду, прибавил: "Как смеешь ты, негодяй, потешаться надо мной такими непристойными шутками? Сейчас же вон отсюда!" - и пинками вытолкал его из Думы. И Милославский, почтенный старец, как слуга, рабски подчинился. Мейерберг по этому случаю заметил, что, верно, "так уж устроена самая испорченная природа московитян. Жадность в их сердце - не гостья, а коренная обитательница". Другой приближенный царя - Федор Михайлович Ртищев, "управляющий всем монетным делом в государстве". Это он ввел в стране медные деньги "с большим убытком для всех" и, "превосходно зная ослиные свойства московитян", умело и крепко держит их в узде. Царский спальник, приятель и сверстник царя Юрий Иванович Ромодановский, падкий на подарки, "не распускает большого паруса по ветру царского расположения к себе". Патриарх Никон шесть лет назад был для царя самым любимым и самым всемогущим человеком в государстве. "Никон очень уж много давал воли своему, жадному до новизны, уму". Он вверг страну в шведскую и польскую войны, открыл училища латинского и греческого языков, "удалил" из церквей частные иконы и ввел "новшества в религиозных догматах", чем вызвал в народе справедливое негодование. Ныне "скрывается в построенном им монастыре", Ново-Иерусалимском. Богатство московского царя определить невозможно. "В Москве, - утверждает Мейерберг, - такое изобилие всех вещей, необходимых для жизни, удобства и роскоши, да еще покупаемых по сходной цене, что ей нечего завидовать никакой стране в мире, хоть бы и с лучшим климатом, с плодороднейшими пашнями, с обильнейшими земными дарами или с более промышленным духом жителей. Потому что хоть она лежит весьма далеко от всех морей, но благодаря множеству рек имеет торговые сношения с самыми отдаленными областями". Ни письменных, ни устных данных об истинных доходах страны искать бесполезно, так как "ни один народ в свете не скрывает своих дел тщательнее московского; ни один столько недоверчив к другим и ни один не получил привычки так великолепно лгать о своем могуществе и богатстве". Поэтому Мейерберг решил посчитать доходы царя по расходам, "для покрытия которых никогда не истощается его казна". С земель и поместий, с пошлин и податей, с налогов и с торговли напитками "пропасть" средств уходит на военные расходы. Жалование воинам-офицерам платится всегда вовремя, даже приносят на дом, если кто-то не мог получить в срок. "Если же кто падет, храбро сражаясь, в бою, царь заботится о честном пропитании его жены, до вступления ее во второй брак, и детей его до их совершеннолетия. Взятых в плен царь возвращает назад, заплатив за них неприятелю выкуп, а женам их во все это время дает половинное жалование их мужей, уплачивая остальную половину этим последним по возвращении их из плена". Офицерами в русской армии ставят обычно иноземцев, потому что в России "все граждане хорошо известны друг другу и ни один из них никогда не подчинится другому, о котором знает, что и тот так же, как и сам он, не храброго десятка". И в то же время русские, "по врожденной гордости", пренебрегают наставлениями иноземцев и обращаются за советом к иностранным полковникам только в случае неуспеха, когда совет уже не может изменить ситуацию. Тогда русские, "приуныв со страха, добровольно уступают им начальство над войском, к неизбежной для него гибели". Пехотинцы дерутся превосходно, дворяне же, всегда конники, бегут от неприятеля, "бесстыдно покидая пехоту на произвол ... и подвергая ее плену или смерти". "Охотно соглашаюсь, однако ж, с справедливостью того мнения, - признается Мейерберг, - что московский народ при обороне крепостей и городов показал много опытов мужества, потому что это народ самый привычный к работе, жару, стуже и голоду, еще с пеленок закалил тело и душу от невзгод жизни. Он дерется с уверенностью в себе, когда видит себя за оградою стен. Не хочу, впрочем, скрывать, что иногда приходит мне сомнение, устоит ли он с тою же спокойностью и успехом против нашего народа в искусстве". (Обучением русской армии займется новый царь, сын Алексея Михайловича Петр Алексеевич, когда Мейерберга уже не будет в живых, - Ю.П.). Закончилась посольская миссия Мейерберга 24 апреля после празднования входа Христа в иудейский град. Послов ввели в Кремль и прочитали царское решение о их возвращении назад, то есть, чтобы по собственному желанию ехали в Смоленск, по словам Мейерберга, "для исправления там возложенного на нас поручения (вести переговоры с поляками, - Ю.П.), и в свое время возвратились бы через польские области к всемилостивейшему нашему государю. Вручена будет нам царская грамота с его ответом на все наши предложения". В знак особого к послам уважения царь пригласил их в свои внутренние покои на "приятельскую беседу". Это было 15 апреля 1662 года. По парадным лестницам и сеням, устланным коврами, охраняемые "уставленными по обеим сторонам густыми рядами стрельцов в блестящем вооружении" послы вошли в обширную залу, обитую ткаными бельгийскими и персидскими обоями. На высоком престоле в "народной шапочке", утяжеленной жемчугом и каменьями, со скипетром в правой руке восседал царь. Приветствуя гостей, он встал, принял "от подавшего большую хрустальную чашу, налитую медом, и ... провозгласил здоровье своего любезного брата, Его Священного Цесарского Величества, изъявляя желание свое в следующих словах: "Дай, господи, чтоб мы, великие государи, могли одолеть всех наших недругов", - и в три приема выпил чашу". Серебряные чаши с вином более пяти раз осушали послы за здоровье царя, за его семейство и за сына, "за добрый успех счастливого мира". На следующий день в этих же покоях царь вручил свою грамоту. "Через 4-ре дня, - заканчивает Мейерберг, - он подарил мне 400 собольих мехов различной цены, а товарищу моему 240, чтобы отдарить нас за поднесенные ему дары, прибавив сверх того мне 4 соболя, да товарищу моему 2, в знак недавней нашей приятельской беседы с ним. Прислал также еще 200 соболей для раздачи нашим служителям". Путь до Вены длился с 3 мая 1662 до ноября 1663 года. (Надо учитывать, что новый год в России начинался 1-го сентября). Незадолго до отъезда Мейерберг, размышляя о свободе и рабстве, записал мысль о том, что "насильственное положение и долговременность никак не вяжутся между собой", что это противостояние можно искоренить "только чрезвычайно насильственным путем", имея в виду разгоревшийся в Москве 4 августа 1662 года "медный бунт": "Между тем в бешенство обратилось терпение бедного простого народа в Москве, дознавшего горьким опытом, что дешевая цена медных денег (обмененное на медь золото текло в царскую казну, - Ю.П.), при великой дороговизне съестных припасов, не дает ему никаких способов к поддержанию своего убогого существования: он поднял неистовый бунт в Москве, послуживший к погибели его виновников, как обыкновенно бывает со всеми возмущениями, которым недостает вождя". 9 тысяч человек, вооружившись одними ножами, пришли к царю в Коломенское с жалобами на Стрешнева, Ртищева, Милославских, "на их строптивость, нахальство, взяточничество, растрату казны, измену, и требовали их смерти". Ласковые речи Алексея и заверения в наказании виновников еще более разозлили народ, и царь в сердцах крикнул стрельцам: "Избавьте меня от этих собак!" В схватке с чернью царское войско победило. Оставшиеся в живых три тысячи простолюдинов "упали в ноги царю, отмаливались от заслуженной ими смерти, прося лучше сослать их в Сибирь, что и получили от Алексея". Пятьсот грабителей оказались на виселицах, расставленных по всей Москве. Обстоятельства вынудили Алексея, который, по заверениям Мейерберга, "никогда не покушался ни на чье состояние, ни на жизнь, ни на честь", расправиться с бунтовщиками, чтобы удержать свою власть. Посольство тем временем миновало Смоленск, Оршу, Могилев, 5-го октября послы увидели разрушенный московитами Минск, потом "пожарище Вильны", оставшееся после разорения ее русскими в августе 1655 года, и, не дождавшись разрешения царя на то, чтобы покинуть пределы России (их гонец был убит в дороге), направились к границе Литвы и Пруссии. "А оттуда, все избегая, однако ж, Польши, наполненной конфедератами (людьми, стоящими в оппозиции к польскому королю и помешавшими заключению мирного договора России с Польшей, ради чего и послан был Мейерберг, - Ю.П.), через Пруссию, Поморье, Брандербургскую Мархию, Силезию, Моравию и Австрию, благополучно возвратились в Вену, в самый день св. Иосифа 1663 года". "Путешествие в Московию" Августина Мейерберга - это серьезное, сжатое историческое исследование страны, вобравшее в себя все известные к тому времени сведения о России, о ее становлении как государства. Автор проштудировал книги Герберштейна, Поссевино, Олеария, некоторые исторические документы и, не оспаривая их ни в чем, подтвердил достоверность этих источников собственными наблюдениями и размышлениями о столь удручающем невежестве здоровой нации, невежестве, не дающем ей возможности стать европейской страной. |



